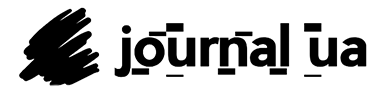Масс-медиа оказываются не только идеальным полем для реализации прожектер-ских амбиций разума, но позволяют также снять извечную оппозицию идеального и материального, служившую камнем преткновения для классических утопических проектов, и перейти к новым виртуальным горизонтам. Утопический проект модерна, реализовавшийся, прежде всего, в литературе и кино, сегодня претерпевает ряд трансформаций и тяготеет к атопичным проявлениям онлайн игр и блогов.
Что обычно понимают под уже привычным словом «утопия»? Все словари и энциклопедии возводят этимологию этого слова к греческому τοπος – «место», υ -τοπος – «не место», то есть «место, которого нет». Но справедливости ради стоит отметить, что сами греки этого слова не знали и уж тем более этим термином не пользовались. Таким образом, термин «у-топия» это скорее продукт классического образования и глубокой симпатии интеллектуалов эпохи Возрождения к греческим корням. Наиболее близко к искомому значению греческое слово «α -τοπος», буквально означающее «неуместность», «странность», «бессмыслицу», «глупость» и даже «неприличность».
Историю утопических проектов возводят к Платону, но стоит отметить, что для Платона Государство – это отнюдь не «место, которого нет», напротив, в предельно онтологическом смысле только оно и есть как наиболее близкое к воплощению идеи блага. В каком-то смысле эта тенденция красной нитью проходит и через утопические проекты модерна, и через атопичные игры разума современных виртуалов. Мучимый невыносимостью реальности, Разум пытается втянуть Тело в свои пределы, но происходит своего рода инверсия, порождающая метастазы ума, который теперь навсегда потерян и заброшен в Топос, а потому чрезвычайно уязвим.
Происхождение жанра утопии тесно связано с идеологией христианства, впервые же это слово в значении «модель идеального общества» встречается в книге путешествий английского священника Сэмюэла Перчеса «Паломничество». Там же впервые употребляется и прилагательное «утопический» (utopian). Отныне утопия навсегда связывается с чаяниями паломника, движущегося по пути к Граду Божьему, или же с ратными трудами конкистадора, приближающего образ вышеупомянутого Града к бренной земле. Характерно для жанра утопии и то, что он возник как литературный жанр и в полную силу проявился в одноимённом произведении Томаса Мора, описывающем модель идеального, с точки зрения автора, общества. Вообще «Утопия» – это название острова, на котором и процветает тотальное благополучие, справедливость и счастье. Здесь в полной мере реализовались и нарождающиеся гуманистические тенденции, и чаяния ревностного католика Мора. Во главе государства Мор ставил, конечно же, «мудрого» монарха, допуская для чёрных работ рабов, – этот тезис выглядит вполне легитимно, поскольку опирается на почти онтологическое различие людей на белую и черную кость, ярко проявившееся уже в концепциях Платона и Аристотеля. При этом в «Утопии» отменена частная собственность, уничтожена всякая эксплуатация – тезис вроде бы противоречивый, но в логике Мора он воспроизводит деление всех людей на христиан (тех, кто по природе равен друг другу) и не христиан (на них свет справедливости не распространяется и распространиться не может).
Уже в этом литературном опусе Мор проявляет важнейшие характеристики утопического мышления. В частности, Мор очень точно почувствовал, что проект справедливого, идеального общества (пусть даже как умозрительный эксперимент) лучше всего реализовать на Острове. Для последующего медийного воплощения всевозможных утопических проектов этот принцип окажется решающим, здесь важна визуальная сторона метафоры острова – его можно охватить взглядом сразу. Дело в том, что реализация проекта идеального социального хронотопа требует полного подчинения и элиминации исключений. Хронотоп может состояться как идея только в случае, если его существование разворачивается в рамках божественной власти, поэтому классическая утопия всегда для всех, она всегда тотальна и, как следствие, тоталитарна. Можно даже вывести следующий принцип: тоталитарное общество всегда утопично, а утопия всегда тоталитарна.
Уже Томас Мор полагал, что тех, кто решительно не согласен следовать зову разума и жить в наилучшем месте, нужно изгнать, чтоб не портили картину. Метафора Острова, прочно вошедшая в техники социального конструирования, окажется идеальным полигоном и для последующих утопических литературных экзерсисов, достаточно вспомнить «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Таинственный Остров» Жуля Верна, «Остров» Олдоса Хаксли и прочие островные проекты, и мы поймем, что принцип замкнутости, конечности, обозримости «наилучшего из миров» чрезвычайно важен при прожектерстве любого уровня. Дело в том, что создание идеального мира на Острове (реже в крепости или городе) максимально приближает нас к позиции всесильного Абсолютного Наблюдателя. Собственно, сила Наблюдателя и проистекает оттого, что он одновременно зрит законы справедливости и в Разуме, и в Реальности. Возможность видеть все и сразу – это свойство, прямо пропорциональное могуществу.
Этот же принцип сегодня лег в основу квазиутопических телевизионных проектов, сконструированных по принципу реалити-шоу, где зритель фактически соблазняется вакантным местом Бога-Наблюдателя.
Еще раз хотелось бы заострить внимание на том, что, анализируя феномен утопического конструирования, мы имеем дело с прожектерскими амбициями именно разума. Хотя, описывая утопию, энциклопедии услужливо сообщают нам, что «… утопические мотивы присутствуют в мифологиях практически любых народов», а значит, человек впадает в утопическое социальное конструирование чуть ли не в силу видовой характеристики. Здесь хотелось бы не только не согласиться с подобным обобщением, но и принципиально отличить парадигму сакрального места в архаическом сознании от утопических проектов теоретической традиции мысли.
Конечно, миф предлагает нам различные образы сакрального и, как правило, потустороннего мира: библейская страна с реками, полными меда, молока и вина, небесный гарем мусульман, полный чарующих красавиц, кельтский край вечной весны – Стеклянный Остров, малайские острова, где душам мертвых обещалось сладкое безделье и удовольствия вплоть до оргий, подземный рай японцев, где люди более интеллигентны, чем на земле, Скандинавский пиршественный зал в Валхалле, где доблестные воины сидят за одним столом с богами, – эти образы отсылают нас к топосу, но никак не к у-топическому проекту, поскольку принципиально не расположены в рамках теоретической культуры. Во-первых, как наличие, так и статус сакрального топоса не требуют логических объяснений и рационализации по своему поводу. «Так повелели и так повелось», – максимум объяснений в рамках мифа. Во-вторых, сакральнй топос, чаемый центр мира не для всех и не всегда, – он для избранных в избранный момент. И, наконец, в-третьих, мы не можем в некоем колонизаторском порыве завоевать сакральный топос, сократить разрыв между мирским и сакральным. Никакие практики не помогут «построить» Рай на земле, поскольку сама постановка такой проблемы уже навсегда лишает нас «райской» наивности. Conquest of paradise или Завоевание Рая – очень специфическое умонастроение, порожденное европейской теоретической культурой и свидетельствующее о непомерных амбициях разума. Определенная путаница, связанная с «утопическими мотивами», – не что иное, как следствие все той же излишней образованности первых авторов утопических опусов.
Утопию как стиль мышлений следует отличать не только от мифа о загробном мире, но и от идеи совершенного государства. Например, можно сказать, что Америка или Рим – это идея, не вполне даже совпадающая с реалиями (хоть и просвечивающая сквозь них), но изменяющаяся во времени. Утопия же принципиально а-исторична, утопический проект – это, конечно, ответ на злобу дня, но именно поэтому как бы лишенный возможности живого динамичного изменения.
Посмотрим пристальнее на игры разума эпохи модерна. Достаточно одиозный пример прожектерского могущества и легкости почти божественной – проект Великой Гибралтарской плотины Хермана Зергеля, автора, пожалуй, главной гео-архитектурной утопии минувшего века. Он собирался перекрыть плотиной Гибралтарский пролив и осушить Средиземное море. Две части света – Европа и Африка, – соединившись, образовали бы новую часть света – Атлантропу[1] , на территории которой раскинулись бы два искусственных моря – Сахарское и Конголезское. Масштабам его замыслов, обнародованных в конце 20-х годов, могли бы позавидовать даже авторы проекта переброски северных рек в СССР. Он творил новые миры с той же легкостью, с какой Пикассо рисовал картины: извлекал из пучины вод тысячи квадратных километров земли, озеленял Сахару, заливал водой пол-Африки, электрифицировал всю Европу. Если Мор мог себе позволить прилагать свои прожектерские амбиции только к маленькому клочку умозрительной территории, то разыгравшийся не на шутку разум модерна потребовал себе игрушек планетарного масштаба. Разница притязаний связана с изменением внутренних установок: если Мор относился с трепетным уважением к миру как творению Господа, то Зергель сам претендовал на то, чтобы занять место Господа на основании того, что весь мир – не более чем протяженная материя, требующая формовки.
Вернемся вновь к анализу утопических проектов. Еще один важнейший принцип конструирования утопии – ничего тайного. В идеальном месте не может быть тайн, сокрытое – заведомо грешное, ведь даже в райском саду Адаму удалось хорошенько спрятаться от всевидящего Бога только в результате грехопадения. С принципиальным отказом от тайны связана склонность утопии к типизациям, которые, в свою очередь, реализуются в последовательно проводимом принципе справедливости. Например, «от каждого по способности, каждому по потребности». В этом узнаваемом лозунге ключевым словом является «каждому» (в смысле всем), а все прочее – трогательные приманки-обещания, достаточно вариативные и призванные сформировать глубокое желание стать каждым.
Определяя утопические склонности теоретического ума, нельзя не заметить внутренний парадокс, которым европейская культура в целом обязана метафизике Платона в частности. Собственно, этот парадокс стал очевиден уже самому Платону (правда, не сразу, а только после третьей с треском провалившейся попытки создать в Сиракузах общество благоденствия), и выражается он в очевидности – утопия (идея) не может быть воплощена, но постоянно требует воплощения. Здесь проявляется чудовищность утопической умозрительной конструкции. Словно Минотавр в подземелье лабиринта, проект совершенного хронотопа постоянно требует мяса, причем исключительно человеческого, при этом, как и мифическое чудовище, не знает насыщения-завершения! Вот почему современные реалити-шоу, законные наследники утопических проектов Просвещения, в идеале тяготеют к тотальности теленаблюдения и принципиальной незавершенности, позволяющей продлить онтологическое воздействие объектива.
Итак, именно медиа, во многом основанные на практике визуализации, превращают хронотоп в у-топос, а затем и в а-топос, наконец-то позволяя разрешить основную коллизию разума, непротиворечиво втискивая тело в ум, тем самым создавая эйдиальную видимость. Но, разрешая одну коллизию, разум немедленно погружается в другую.
Утопические претензии разума, реализующиеся в поле медиа, можно метафорически описать в логике мифа о Персее, убивающем при помощи зеркального щита Медузу Горгону, где Персей – субъект, склонный размещать себя в идеальном хронотопе, Медуза – чудовищная реальность, при взгляде на которую субъект каменеет, и наконец зеркальный щит – медиа, экранирующие и тем самым впервые создающие для зрелища чудовищную реальность.
2. Терезинштадт: медиаутопия в стиле модерн
Итак, утопия, как свойственный разуму соблазн воплощения того, что по определению воплощено быть не может, имеет тенденцию (по крайней мере, в ХХ веке) к осуществлению в пространстве медиа. Причем здесь, по словам знаменитого утописта-практика, «наиважнейшим из искусств для нас является кино». Иными словами, кино оказывается тем медиа, которое особенно предрасположено к созданию утопий. В самом деле, утопии (с их многочисленными модификациями как то: антиутопии и ретроутопии, кибер-панк, неонуар и проч.) – крайне популярный жанр массового кино, не говоря о том, что образ подозрительно райского Острова в кинематографе прямо-таки стал шаблонным. Значит, во-первых, у массового зрителя есть определенная потребность в медиапродукте такого рода (что само по себе тоже может быть расценено как симптом), а во-вторых, кино обладает каким-то особо удачным набором средств для конструирования утопий.
Кино формирует тело как образ-эйдос. То есть средства кинематографа (прежде всего монтаж) превращают тело в образ тела, устраняя в нем все лишнее, то есть все те избыточные детали, которыми характеризуется живое существование. В результате кинематографическое тело-образ становится как бы прозрачным для смысла. Более того, кинематограф, фактически, спасает тело от бренности, как бы выхватывает его из лап смерти, но при этом сохраняет его подвижность, то есть создает впечатление жизни, свободной от умирания. Вирильо пишет о том завораживающем эффекте, который производят на нас фильмы, к примеру, братьев Люмьер: «Целое столетие ребенок с тем же аппетитом продолжает наворачивать кашу, тогда как он давно уже умер от старости»[2]. Можно сказать, что кино на практике возвращается к двум исходно античным концептам, а именно: к симулякру и эону. Об эоне можно говорить постольку, поскольку тело кинообраза включено в специфический топос вечности, оно стало эфирным во всех смыслах этого слова, в том числе, и в аристотелевском. У Аристотеля эфир – это вещество надлунного мира, из которого состоят небесные тела, в силу своей эфирной природы неподверженные порче и разрушению и совершающие только вечное круговое движение. Так вот, тела на кинопленке движутся, в каком-то смысле подобно небесным телам – с каждым просмотром фильма они повторяют свою траекторию, и поэтому их материя – эфир, а время – эон. Что касается второго «античного» понятия (доставшегося нам из надежных рук постструктуралистов), то медиа- и особенно кинообразы симулякрами не называет сегодня разве что ленивый. И все-таки позволим себе остановиться на этом «штампе» современной мысли. Онтологические характеристики (если так можно выразиться) симулякра крайне двусмысленны. С одной стороны, это своего рода эйдос-трикстер, то есть образ, освободившийся от прообраза, за что он, в качестве дурно удвоенной копии, был проклят Платоном, а в качестве знака, свободного от референта, был реабилитирован постструктуралистами. Но можно говорить о симулякре и в эпикурейском смысле, тогда это будет образ-подобие, возникший благодаря истечению атомов, отщепившихся от тела и переместившихся к органам восприятия. Но в таком случае симулякры – условия того, что восприятия истинны, ведь в них онтологически сохраняется след вещи. Эта двусмысленность прекрасно характеризует работу киносимулякра. Кинообраз может даровать насыщенное эмоцией тело не только вымышленному герою, но и фантазматическому бреду. Это с одной стороны. С другой стороны, киносимулякры по какой-то логике (близкой к эпикурейской) воспринимаются зрителем как заслуживающие доверия. Не последнюю роль в этом играет метафизика (или даже мифология) светописи, существующая вокруг кино- (и фото-) документов: чтобы возник симулякр (образ тела на пленке), нужно, чтобы была сначала «вещь», оставляющая свой световой след, пусть даже это будет вещь эстетическая, игровая. Конечно, современная киноиндустрия, беря на вооружение цифровые технологии, все в меньшей степени нуждается в реально-вещной подкладке для своих реалистичных спецэффектов. Однако эту тенденцию можно вполне истолковать в том смысле, что мы имеем дело с созданием иного языка, отличного от языка собственно кино. Об этой тенденции виртуализации на почве развитого постмодерна речь пойдет позже, в данном же контексте нам важно то, что модерн понимает язык кино как сугубо реалистический. В частности, на такой характеристике настаивает Зигфрид Кракауэр, известный исследователь раннего немецкого кинематографа[3]. Камера выхватывает в вещах то, что естественным образом не цепляет взгляд или просто не может быть увидено, имея другую временную или пространственную размерность. Благодаря ей мы можем, законсервировав движение, разглядеть динамику бега лошади или роста цветка. Но не только. Уловлению в «киносилки» поддается также то, что Делез назвал «образ-время» – то есть своеобразный аромат эпохи, само поле повседневного опыта, являющееся подкладкой реального восприятия и потому неуловимое для непосредственного взгляда, но ухватываемое глазом объектива.
Объективность объектива ставит камеру в один ряд с оптическими устройствами науки. Более того, камера может восприниматься как некий глаз Бога, дарующий оператору статус всевидящего субъекта, чувство объективности и неприкосновенности. Правда, как часто выясняется, весьма эфемерно и то и другое (к примеру, свидетельский пафос человека с фото- и кинокамерой нередко приводит последнего к летальному исходу). Но важно то, что кинокамера воспринимается как средство познания или получения свидетельства об истине, иначе не был бы возможен столь двусмысленный феномен, как кинодокумент. «Мы видим вещи такими, каковы они есть в тот момент, когда сами мы отсутствуем. Мы видим жизнь такой, какая она есть, когда сами в ней не участвуем», – пишет о кино Вирджиния Вулф в далеком 1926 году[4]. Кино позволяет нам видеть собственными глазами события, в момент происхождения которых мы отсутствовали, но также оказывается и средством «спасения» для тех событий, которые происходили с нами. За тотальным распространением home video прочитывается попытка обывателя доверить эфирному симулякру свой индивидуальный почерк существования и атмосферу своего времени. Сложная эмоция, которая при этом захватывает зрителя, очень точно выражена фразой одного из героев фильма «Первые на Луне»: «Наверное, у Бога в раю мы все, как на кинопленке…». Даже возможность тотальной слежки за всяким и каждым при помощи всевидящей кинокамеры оказывается для обывателя внутренне оправданной – в конечном счете, не страшно попасть на кинопленку, страшно на нее не попасть. Парадоксальная смесь паранойи тотального наблюдения и надежды быть увиденным и увековеченным в медиа-образе выражается в принципе: «Все, что было, было снято; все, что снято, то было»[5].
Специфические средства кинематографа позволяют наиболее полно утопию реализовать в сфере эстесиса. Еще Шиллер говорил о воспитательном потенциале эстетического, поскольку с его помощью должное (мы бы сказали, метанарратив) представляется так, как если бы оно было данным. Кино позволяет разглядеть образ-утопию в подробностях и даже пережить на эмоциональном уровне, поскольку смысл дан как движущееся тело, заряженное эмоцией. В этом визуально присутствующем возможном перемешаны и идеальное, и правдоподобное, и динамичное (учитывая, что возможность как potentia есть перевод с греческого понятия дхнбмйт, то есть силы и движения одновременно), и эмоциональное (e-motion как переживание содержит в себе также смысловой намек на движение) – и эта подвижная смесь образует воронку, обладающую достаточной энергией, чтобы «затянуть» зрителя. Итак, кино дает эффект присутствия возможного как если бы оно было действительным, и этот эффект оказывается необыкновенно действенным. В данном случае вспоминается соцреализм[6] в редакции Пырьева – как отображение социалистической действительности такой, какой она должна быть и обязательно будет при победе коммунизма. Более того, зритель, покидает кинотеатр с впечатлением, что действительность уже становится таковой. В реальности не было ни пырьевских колхозов, ни ладынинских колхозниц, но то были эйдосы (читай «симулякры»), данные в воспитательных целях. Их убедительность для зрителя базировалась на том, что они отражали не реальное положение вещей (на него и смотреть-то не хотелось), а реальное положение ожиданий, в том смысле хотя бы, что светлый образ наглядно показывал, ради чего необходимы все жертвы и лишения. Здесь соцреализм плавно перетекает в сюрреализм по причине своей исходной утопичности. Пропаган-дистский потенциал медиа вообще и кинематографа в частности заключается в том, что субъект, соблазненный увлекательным зрелищем, погружается в созерцание и при этом незаметно, играя, подвергается воспитанию, прежде всего, идеологическому. Поэтому кино модерна прямо-таки напичкано метанаррациями. Давая светлый образ труда, оно организует при этом еще и труд образа[7], стаскивая эйдос из сферы надстройки в сферу базиса и превращая его в производительную силу. Кино дает массе увидеть себя как массу, оно дает идентичности массовому сознанию, а также канализирует силу массовых аффектов (разряжает, направляет, аккумулирует с целью извлечения КПД), а значит, позволяет манипулировать массовым сознанием и получать эффективное массовое тело.
Рассмотреть трансформацию вполне реального топоса в утопический медиаобраз можно на примере Терезинштадта[8]. Терезин – образцово-показательное еврейского гетто времен второй мировой войны, расформированное после того, как о жизни в нем был снят пропагандистский фильм «Фюрер предоставляет город евреям». Он вполне может быть квалифицирован как медиаутопия в стиле Модерн, «рай», построенный в отдельно взятом месте на определенное время с целью создания эффективного медиа-образа, и интересен тем, что позволяет проблематизировать связь медиа и утопических претензий европейского рацио. Причем здесь мы сталкиваемся, если так можно выразиться, со сложноорганизованной утопичностью: город-эксперимент с крайне двусмысленной, но эффективно организованной топологией, который с пропагандистскими целями был буквально втянут в медиа-пространство.
Уже само по себе терезинское гетто имеет некие черты утопического хронотопа, при всем том, что, разумеется, ни один из его организаторов не захотел бы оказаться внутри этого «рая». Прежде всего, это крепость, то есть некий аналог острова, пространство, изолированное от окружающего мира во имя некоего социального эксперимента[9], а именно: в рамках лагерного самоуправления евреям «предлагалось» воплотить свою религиозную и политическую мечту о собственном национальном государстве – в этом и состоял «подарок фюрера». При этом еврейский утопический идеал встраивался в утопию другого рода – утопию Третьего Рейха, а фактически, в проект «окончательного решения». Заметим в скобках, что речь идет именно об утопическом прожектерстве – «окончательное решение» это именно проект, то есть здесь имеет место сцепка совершенное-незавершенное (незавершимое, как если бы оно могло быть завершено). В зону эксперимента направлялся элитный контингент: в лагерь попадали, прежде всего, писатели, видные политики и деятели науки, верховные раввины, актеры, композиторы и т. д. – нельзя же доверять «воплощение мечты» кому попало! При этом утопически-тоталитарный характер этой потемкинской деревни проявлялся уже в том, что всякий, кто попадал в нее, уже заведомо был подведен под общий знаменатель (одну на всех еврей-скую идентичность получили даже те, кто в прошлом никак себя не связывал ни с иудейской религией, ни с иудейской культурой), а затем посчитан (у каждого, как и в концлагере, был свой идентификационный номер). Поскольку Терезин имел репутацию особо гуманного лагеря для перемещенных лиц, многие давали взятки в гестапо, чтобы иметь шанс попасть именно в него. Правда, гуманность Терезина была крайне неоднозначна. Во-первых, в «раю» было тесно, условия жизни были тяжелыми, а смертность высокой[10] . Во-вторых, он сразу задумывался не только как образцовое гетто, но и как транзитный пункт по пути в лагеря смерти. Ни газовых камер, ни крематориев заключенные здесь не видели, о своих реальных перспективах могли только догадываться, они задерживались в Терезинштадте кто на несколько дней, кто на несколько лет, но каждый жил в ожидании своего транспорта НА ВОСТОК. Так что Терезин обладал чертами Лимба, будучи неопределенно долго длящимся преддверием смерти.
Специфику существования в Терезине бывший заключенный Йозеф Мануэль характеризует следующим образом: «Наш лагерь был рассчитан на смерть и при этом организован для жизни. Этакий мутант, с головой убийцы и телом жертвы. Фашистская голова давала приказы еврейскому телу, а оно, в свою очередь, должно было найти такую форму существования, которая позволила бы ему выжить. В этом-то и состоял весь абсурд…»[11]. Город управлялся Советом старейшин, в нем действовали правоохранительная служба (суд и тюрьма), медицинская служба (больницы, амбулатории и изоляторы), отделение связи, банк, магазины, общепит (столовые и кухни), детские дома, проводились иудейские и христианские богослужения. Набор учреждений в этой инфраструктуре показателен – он отражает европейское представление о человеческих правах, редуцированное к категориям минимального благополучия и основных потребностей, которые должны осуществляться под бдительным контролем власти (заметим при этом, что разговор о необходимых потребностях предполагает чисто экономический подход, характерный для общества производства). Интересно, что заключенным было даже предоставлено право на организованный досуг: так называемый «Отдел досуга» проводил множество мероприятий, от театральных постановок до футбольных матчей. Все функции в означенных выше институтах выполнялись самими же заключенными, немецкой была только комендатура. Причем у еврейского начальства была возможность распоряжаться не только трудом и духовной жизнью своих собратьев, но также собственно жизнью и смертью, поскольку именно они проводили отбор конкретных лиц на депортацию в концлагеря. Так что нередко от отправки спасала протекция в Совете старейшин, однако всегда ценой депортации другого заключенного из «запасного» списка. Таким образом, перед нами картина чрезвычайно эффективно организованной тоталитарной утопии, продержавшейся 4 года без каких бы то ни было эксцессов со стороны заключенных. Власть со всеми ее функциями была, практически, инкорпорирована в тела самих узников, которые, чтобы поддерживать собственное существование, вынуждены были также поддерживать и существующий порядок, и основывалась на тонкой пропорции страха покинуть (или утратить) этот «лучший из возможных миров» и надежды на выживание. Судя по драматичным дневникам, оставленным одним из представителей еврейского начальства (неким Эгоном Редлихом), к этой пропорции страха и надежды добавлялось также и тяжелое чувство вины, поскольку руководящее звено лагеря в принципе знало, что происходит с людьми, включенными в транспортные списки.
Образцовый характер гетто был задуман с пропагандистскими целями, для воздействия на общественное мнение, причем действовал здесь основной рецепт убедительной мистификации: вкрапление элементов очевидной истины в ткань заведомо превратного рассказа, или подведение реалистически-вещной подкладки под идеологические конструкции. В Терезине в 1942–1944 годах побывало несколько комиссий Международного Красного Креста, которым показывали, что евреи, в сущности, устроились в Третьем Рейхе неплохо. Перед каждой комиссией заключенные проводили «приукрашивание» города: снималась колючая проволока, воздвигались «кафе», «магазины» и «школы», детям раздавали бутерброды, красивые девушки с песнями шли на работу. Делегаты Международного Красного Креста ходили строго по предложенным маршрутам, стараясь не глядеть по сторонам, и уезжали в полном восторге, так и не столкнувшись с реальным положением дел. Помимо приглашения Красного Креста для широкой общественности писались письма от Совета Старейшин о жизни в лагере. Но пиком этой пропагандистской кампании стали съемки фильма «Фюрер предоставляет город евреям». И это, конечно, не случайно, ведь пропагандистский потенциал кино в Третьем Рейхе весьма высоко ценился. Интересно то, что режиссером фильма был терезинский заключенный. В этом вновь можно увидеть так эффективно использовавшийся в Терезине прием «самоуправления» – видимо, только «свой» режиссер мог добиться, чтобы измученные и запуганные люди старались выглядеть убедительно довольными и счастливыми. После того, как фильм был снят, Терезин быстро свернули в качестве проекта – он выполнил свое предназначение. И этот факт действительно позволяет предположить, что гетто со всеми его структурами и людьми существовало, прежде всего, для создания медиа-образа. За сентябрь-октябрь 1944 года 11 транспортов увезли в Освенцим-Биркенау почти 20 тысяч человек. В первом эшелоне отправился режиссер, в заключительном – весь совет старейшин.
Содержание терезинской пропаганды вполне укладывается в схемы гуманистического и просвещенческого дискурса. Нацизм подается как вариант гуманизма – поиск и определение человеческой сущности с ее последующей практической культивацией, предполагающей излечение всех болезней человечества (в данном случае еврейской проблемы), причем даже к этой болезни практикуется «гуманное» отношение. Ту же схему использовали и пропагандистские фильмы в поддержку программы эвтаназии (массовых убийств неизлечимо больных и умалишенных, которых следовало усыпить из сострадания и во имя здоровья нации)[12]. Фильм о Терезине должен был показать, что евреев изолировали не только потому, что они потенциально вредны, но и для их же собственной пользы. По большому счету в этом сообщении о счастливой жизни евреев под Гитлером прочитывается гегелевская диалектика господина и раба, которая должна была легитимировать все эти сомнительные манипуляции с человеческим материалом. Зритель мог убедиться, что евреи вполне способны радоваться жизни и быть благодарными и довольными, если им обеспечить удовлетворение небольшого набора необходимых потребностей. Именно этот «документально» засвидетельствованный факт удовлетворенности своим положением как бы эмпирически доказывает, что у евреев – рабская природа, поскольку раб – это тот, кто выбирает не смерть ради свободы, а более-менее сытую жизнь в неволе. Далее можно вспомнить Аристотеля с его различием рабской и нерабской человеческой породы и рассуждениями о том, что для раба лучше оставаться взаперти, поскольку к свободе он просто не способен, зато способен к работе («труд освобождает!»). Поэтому зритель должен сделать вывод, что справедливо и гуманно, что евреи находятся в гетто и выполняют там свое предназначение – трудятся (в том числе производя и эстетические ценности, примерно так же, как корова производит молоко – ей тоже совсем не нужно быть для этого свободной). Расчет был также и на то, что такое «сытое» положение евреев вызовет у порядком измученных войной немцев, скорее всего, чувство тайной зависти и озлобленности, что поможет осуществить «окончательное решение» без каких-то серьезных протестов с их стороны.
Такой проект могло придумать и воплотить только «просвещенное ложное сознание», то есть сознание циническое. При этом эксцесс просвещения состоял еще и в том, что и палачи, и жертвы говорили на одном языке – языке гуманизма. Рассуждения о человеческой сущности, судьбе цивилизации и тому подобных вещах хоть и по-разному, но велись с обеих сторон колючей проволоки. В частности, очень симптоматична та ситуация, которая складывалась вокруг образования. На фоне того, что в Терезине были разрешены различные формы эстетических практик (музыка, театр, поэзия, рисование), особенно кричащим выглядел запрет на обучение детей. При этом для Красного Креста на здание все-таки вешалась табличка с надписью «Школа». Многие заключенные с риском для собственной жизни и жизни детей потихоньку занимались их образованием. Это говорит о том, что обе стороны в соответствии с просвещенческими идеалами видели в образовании высшую ценность («знание – сила»), а потому одни включили его в список запретных удовольствий, хотя создавали видимость, что оно разрешено, другие же до последнего цеплялись за него, как за условие сохранения собственной человечности. Логика Просвещения здесь присутствует в точке слома. Досуг – некий весьма небольшой избыток времени и сил, которым терезинские заключенные располагали в отличие от заключенных концлагерей, – оказался не только достоянием, но и проблемой, потому что он оставлял возмо