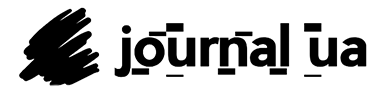Время тотально, всесильно и безгранично. Мир вне времени непредставим – и, тем самым, невозможен. Время не ограничено ни временем (вечно), ни пространством (нет во Вселенной места, на которое бы не распространялась власть времени). Поскольку это так, время ни в малейшей степени не зависит от человека, устроения его разума, восприятия, представления – напротив, таковые обуславливает (разумеется, подобная логика достойна отдельной аналитики).
Но основанной подобной логикой позиции противостоит иная, связующая время с бытием человека и особенностями его восприятия (мышления, деятельности).
"Естественное место" подобной позиции куда более локально; оно образуется тем подсобно-обиходным "восприятием" всякого предмета, которое возникает в форме ряда разрозненных ощущений и "синтезирует" из них нечто "целое" (вещь, индивида, мир).
Вследствие время вынуждено метаться меж двумя крайностями: с одной стороны, обслуживая нужды естественников, выступать беспредельно могучим потоком, которому в соприродности Богу приличествует говорить языком математики, с другой же, частным свойством восприятия, исправляющим его общую слабость, той ловкостью, путем которой жонглирование разрозненными впечатлениями созидает мир и обыденную предметность.
Попробуем разобраться с подобными естественными ощущениями, оттолкнувшись от этой интимной данности мира в самоподаче "внутреннего течения времени".
Прежде всего, течение времени ощущается непосредственно. Прочее, "мир" и его наполняющие предметы, ощутимо посредством времени, возникают в нем, "собираясь" из пучков восприятий, привязанных к "здесь и теперь". Подобные восприятия естественны и, как нередко представляется, врождены человеку (именно убеждение в естественности восприятия времени рождает представление о том, что наиболее адекватный инструмент его изучения представлен инстроспекцией, что сам человек, рефлексируя над собственной способностью рефлексии, обладает возможностью реконструкции "природы времени").
Вообще говоря, и упомянутые очевидности оперты на время и его существенность; но если "мир" и его населяющая предметность и даны исключительно во времени – что во многом очевидно – то они таинственно существуют и как то иначе, самостоятельно или самобытно, независимо от способа своей явленности. Философия и смещает понимание времени к тому, что представляет собой бытие вне и помимо человека, как оно возможно, насколько адекватно (и адекватно чему) раскрывается мир в рамках человеческой формы его представления; в зависимости от акцентов и существо времени обретает различные трактовки. Например.
"Мир" безусловно существует; существует каким то образом и "человек", как то, что мир в состоянии воспринять; мало того, к такому "восприятию" приобщен каждый; но его восприятие вынуждено опираться на нечто "текучее", "изменчивое", "преходящее", иначе, неистинное, и воплощенное временем. Фрагментарность ощущений и преодолевает разум, за ними усматривая нечто подлинное (вневременное, идею, вечную истину, Бога).
Подлинная свобода (счастье, истина) есть бытие по ту сторону времени (в этой абсолютной абстракции (абстракции Абсолюта) сходятся порой даже Восток и Запад).
Можно возвести истоки такой трактовки и к фундаментальному различию, которое произвел ещё Платон, отличив мир по мнению от мира по истине и вынеся истину или идею за пределы становления и власти времени. Очевидно, и убедительность его взглядов укоренена в весьма обыденных ощущениях. Данная всякому восприятию предметность – этот стол, книга, текст – не могут быть восприняты "сразу и целиком". Путь "к ним как таковым" связан с последовательным ощупыванием, осматриванием, прочтением , в ходе котрых "нечто" и возникает в качестве итога (преобразуя протекший процесс узнавания в "предварительный", пропедевтический, а его итог – в нечто "подлинное" и познанное). Чтобы представить себе нечто "как оно есть", необходимо его прежде всего остановить, "зафиксировать", рассмотреть "само по себе"; an sich Канта рождается в рамках подобной же очевидности.
Между двумя диаметрально различными способами понимания времени возникает разрыв, который мы и попробуем кратко обозначить.
С одной стороны, время предопределяет собой все иное, что в нем обретает бытие. В его состав включено все существующее и возможное: предметный мир и люди, его населяющие, их идеи и память, наука, технология, власть, государство и пр. (в частности, время властвует над людьми, например, в их старении и смерти утверждая свою власть прямо и недвусмысленно).
Нет ничего в человеческом бытии, что не выступало бы продуктом истории; само восприятие человека, его мышление, разум, мировоззрение – равно экстериоризированная культура, городской ландшафт, вытесняющий "естественную природу" как естественный же предмет восприятия – и формируют само "время" как ту или иную эпоху в единстве ее материальных и идеальных наполнений (Гегель, Маркс, школа "историзма").
Время есть бытие; бытие есть время (М. Хайдеггер).
Но эта "большая посылка" безконфликтно сосуществует с малой.
Мир должен быть ухвачен вне времени, "поистине"; он и существует независимым от "течения времени" образом, и лишь восприятию "дан" в неком "временном потоке". Понять мир – выйти за пределы времени, преодолеть фрагментарность предварительных схватываний, синтезировать целое, или истину (идею) предмета, принять его таким, каким он есть "на самом деле", "по ту сторону" текучести и аморфности разрозненных своих "проявлений" (можно, несколько упрощая, связать эти взгляды с именами Аристотеля и Платона; это было бы чересчур общим, хотя, возможно, в чем то полезным, введением в проблему).
Время и вечность – два персонажа, из которых первый воплотил всю низменность и хаотичность уходящего и подверженного гибели, второй же вобрал все достойное бытия "по ту сторону времени", все, что "выше" тления и деградации, все, тайным образом или вьяве повенчанное с Высшим началом, Творцом (как извечным пределом совершенства, в развитии не испытывающем никакой нужды).
Переживание, или субъективное ощущение времени, в его отношении к объективному "протеканию". Предварительные наброски
Каждая из обозначенных позиций при развертывании обретает различные, более или менее остроумные, модификации. Упомянем некоторые.
Поскольку в мире времени нет, поскольку оно привносится в мир человеком, при помощи времени как инструмента способного мир представлять и жить лишь в таком – и только таком – мире, вне человека в мире существует лишь нечто данное, преходящее; но человек хранит это уходящее (правда, и хранит, соответственно, вопреки ходу времени?), собирая из мгновений "картину мира", порождаемую человеческим "присутствием".
В таком ракурсе время предстает рядом кинематографических снимков, хранящим последовательность мгновений. Это – одно из наиболее распространенных представлений о природе времени, вызвавшее и ряд возражений. К наиболее известным можно отнести указание на то, что "время" в таком случае элиминируется собственным течением; миг по мере "течения" времени и "уходит" в уже несуществующее прошлое, и "становится" еще несуществующим будущим. Прошлого, таким образом, уже нет, будущего еще, настоящее растворяется в их переходе.
Помимо путаницы логического представления, осмыслению времени сопутствует неясность роли человека в деле временного развертывания; в таком отношении диапозон гипотез особенно обширен. Так, в соответствии с одной из характерных трактовок, время двумерно; его "объективная природа" энтропийна, разрушительна; человек (в некоторых трактовках – "все живое", см., в частности, [2]) представляет "творчески-субъективную" ипостась времени, "антропный принцип", противопоставленный энтропии, направляющей Вселенную к тепловой смерти.
Эти и иные наброски при всех достоинствах обладают и неискоренимой слабостью – они мало проясняют природу времени, намечая вектора развертывания его "силы".
Но временность выражает себя и в гораздо более прозаических обстоятельствах, в той "подсобности и инструментальности", с упоминания о которых мы начинали.
Всякое А равно А; но всякое данное хранит в себе многообразие ощущений "себя", есть вариативность "пучков ощущений", связанных с последовательным осматриванием, ощупыванием предмета, многообразием тех путей, что предшествуют (гипотетическому) "синтезу восприятий" или как-то иначе данному многообразию определений; данное дано человеческому восприятию фрагментарно, и вследствие вынуждено реконструироваться в подозрительном синтезе; в этом акте и время обнаруживается в качестве необходимой, но неопределенной процедуры (процесса синтеза восприятий, ощущений, знаний, процесса, пребывающего в неком отношении к процессу становления предмета самого восприятия, ощущения, познания), а А, выступая ее итогом, утрачивает наивную самотождественность, во множестве подводящих к себе путей сборки обретая реальную опору множественности интерпретаций.
*
Несложно заметить, что упомянутые модификации так или иначе связаны с теми их подстилающими "центральными означающими", которые и предопределяют интуицию и строй очевидностей понимания столь неосязаемого предмета (поскольку фрагментарность принадлежит кому то, упомянутая "сборка" осуществляется кем то, но отнесены они к тем внешним предметностям, что терпеливо претерпевают такие операции, удерживая "себя" в неизменности собственной природы).
К ним следует отнести прежде всего представления о "субъекте" и "объекте", как и их отношении; понятно, что "объективность" временного хода вне понимания природы "объекта" столь же бессодержательна, как и его "субъективность"; взаимопроникновение субъекта и объекта – то "метапредставление", что очерчивает рамки европейского способа представления "природы времени".
Попробуем в такой связи чрезвычайно схематично реконструировать несколько для такого мышления значимых этапов генезиса упомянутого погружения субъекта в объект (равно захвата и подчинения субъекта объектом, например, в форме "опредмечивания" и (или) "отчуждения").
Исходным фоном реконструкции в такой связи не может не выступить проекция подобной онтологии на постигающее мышление, или идею (дух или призрак Вечности).
Два внешне различных способа представления времени – процессуальный (субъект- объектный) и результирующий, воплощенный знанием, – в рамках классики разыгрывают вечную драму познания, спектакль с двумя непременными ролями – объекта и субъекта, по мере развертывания собственной активности все более объектом "проникающегося", и в своей некрофилической страсти неизменно (в силу упорства) обретающего взаимность; она и торжествует в их окончательном слиянии, "идее" и знании, неподвластных "ходу времени" (вечный удел объекта, или его предопределение – вечность; вечный удел около него увивающегося субъекта – время, отведенное ему для "постижения"; завершение сего акта совпадает с "концом времен").
Канва подобной постановки рождает артефакты, также ставшие классическими: в многообразии мира выделяются реалии тленности и прехождения, из их круга вырывается знание и его конституирующий принцип, идея; идеи вечны и образуют "мир истины".
Но и логика реконструкции течения времени классикой не бесспорна.
Рассмотрим ее чуть внимательнее.
Протекание времени есть череда мгновений настоящего, связуемых вне-временной субстанциональной- Я- связью; всеобщность такого связывания полагает природу времени в качестве синтеза универсального (вне-исторического, кантовского) типа.
Оставим на время в сторону вопрос о природе подобной "универсалии" и прежде всмотримся в феномен перманентного "синтеза настоящего".
В полном соответствии с предлагаемой схемой, "настоящее" в его рамках не дано непосредственно; то, что существует сейчас, не есть (нечто определенное), представляет хаос предварительных "схватываний"; синтез, преобразующий их в "нечто", должен ещё произойти (в будущем), после чего в нём установится то, что должно выступать эрзацем "настоящего", но в логическом отношении не выступает ни им, ни "прошлым" (последнее также необходимо каким то образом "реконструировать", предварительно различив в этом процессе процедуры "синтеза" и "реконструкции", "процессуальность" и её полноценное выражение, финальную представленность; Кант в своих реконструкциях игнорирует ту сторону предметности, что представлена преходящим и процессуальностью, ориентируясь на стационарный "ноумен", извечную "вещь в себе" – а по сути, платоновскую идею и ее платоническое созерцание, исключающее грубое "овладение" и "подчинение", насилие и преобразование предмета; иными словами, предмет познания Канта вечен, ориентирован предметностью естественнонаучного знания; роль активности в процессе познания оценит Гегель; он же преобразует субъекта и его общественную природу в равноценный предмет понимания, вместе с тем признав за становлением роль предмета постижения и свойства его постигающего субъекта).
Что же выступает итогом подобной констатирующей феноменологии?
Настоящее "подлинно раскрывается" лишь в будущем; будущее подлинно настаёт, обретает существование, став плацдармом осмысления прошлого.
Никакого "настоящего" тем самым не существует; существует лишь представление, в соответствии с которым мы в неопределенной точке завершения синтеза можем судить о чем то прошедшем как о "понятом", заменяя пёстрые фрагменты прошлого тем, что в нём представляется настоящим (в соответствии с св. Августином или М. Прустом – и не с логической, но с нравственно-эстетической и самокритической установкой) теперь (и в настоящее время психология пытается разрешить то же затруднение [3]).
С подобным противоречием вплотную сталкивается и Гегель. Разделяя исходные установки классической философии, он также помещает время в центр процесса познания и утверждает историзм в погружении бытия в самое себя. Противоположенность субъекта и объекта снимается в абсолютном знании. Правда, описанная выше дилемма в рамках его трактовки разрешается весьма своеобразно; "человек" по прежнему осознает нечто лишь в ходе ретроспекции; но это не слишком значимо в силу того, что его сиюминутные и с его точки зрения непродуманные действия всегда исходят не от него, но от иной субстанции, Духа, по сути стоящего за кулисами истории. В силу того разум может не спешить; всякая проблема так или иначе внутри себя готовит условия своего "разрешения"; разум, готовый к осознанию универсальности подобного условия временного хода, всегда подберет к той или иной коллизии логически-универсальные формы причинности. Диалектика и полагает снятие в центр процесса истории; разработанная Гегелем трактовка историзма, оказавшая мощное воздействие на западное философское мышление, вдохновляется телеологизмом, в конечном счете ход истории предопределяющим – и вместе с тем обесценивающим. И, при всех новациях, философия Гегеля проникнута величавым спокойствием классики; драматизм революционно-исторических коллизий на самом деле не слишком значим; в истории разыгрывается "драма идей", предопределенная логическими отношениями; сама история в такой связи обретает облик пропедевтический; в ней осуществляется "истина" (Бытие, Бог), воплощенная знанием, и такая истина безусловно осуществится.
*
Пост-классическая философия свое преодоление пан-логизма основывает идеями и иными, и по отношению к "временности", апологетическими.
В частности, она по иному относится к преходящим вещам и событиям: с ее точки зрения, не существует лишь осознанного, или сознательно воспринимаемого, настоящего; такое настоящее действительно возникает вследствие осознания состоявшегося; вместе с тем в мире наличествует иное, "субъективное" и до-рефлексивное настоящее, о котором нельзя сказать порой ничего осмысленного, но которое регулярно "втягивает", ощущается и экзистенциально переживается – и существует, во многом определяя "ход истории".
В рамках различных подходов (в установках феноменологии, гештальт-психологии, "коллективного бессознательного") натурализм кантовского представления о восприятии, "окончательность" его итогов преодолевается в разомкнутости "установок" восприятия и его результатов, представляющихся генетически формируемыми в онто- и фило-генезе; но и в рамках интроспективных экскурсов, и интерсубъективных реконструкций, настоящее и в нем заключенное состоявшееся утрачивают исчерпанность логических экспликаций, в связи с чем и открываются перспективы плюралистичной разомкнутости временности и в ней (из нее) про-исходящего.
Следующая по стопам совершившегося оценка и рациональная трактовка теряют те прежние значения окончательного приговора, которые ассоциировались с судом истории, и открывают многомерность бытия в отношении логических интерпретаций (отдельным и здесь не рассматриваемым сюжетом выступает критика логики с точки зрения ее связи и в ее рамках не эксплицированной зависимости от системы ценностей; такая критика тесно связана как со становлением самого историзма, так и политэкономии, социологии, этики).
*
Однако, вопреки многообразным интериоризациям времени, интроспективным его изучениям, замкнутым на непосредственно-достоверном как внутреннем мире индивида, время слишком явно выражено в упомянутой инструментальности, как подсобности своей природы и, в то же время, ее общезначимости, материальности. Обыденное ощущение хода времени настойчиво сопровождает всякое восприятие, позволяя различать в нём до и после, вчера и завтра, иначе, осуществлять текущую ориентацию во времени (формируя и ту (мнимую) ясность, о которой столь убедительно говорит св. Августин; в подсобности времени и скрыты опоры распространенности "знания" о нем; так всякий, не имеющий ни малейшего представления о "природе времени", знает всё о тех "раньше, позже, тогда", из которых, кажется, и состоит время, и как будто вправе притязать на его исчерпывающее понимание – последнее, правда, "невыразимо"; но ведь аналогичное замечание можно отнести и к самым распространенным представлениям: семье, власти, литературе, знанию, нравственности, государству, цивилизации; все знают, что они собой представляют, пока о них не зайдет речь, пока отдельные их представляющие и весьма понятные фрагменты не придется выстраивать во внутренне связное "целое").
Именно в этих простых актах общего восприятия время обретает (пусть отчасти и иллюзорную) прозрачность, образует острова, на которых отдыхает усталое восприятие, рискующее раствориться в безднах душевного хаоса, фантазмах интроспективных эскапад и "ретенций", иных романтических таинствах "обретенного и утраченного времени".
*
Последнее обстоятельство указывает на время иного рода, не заключенное в скобки субъекта и его интроспективных экзерсисов. В живом и общем для всех настоящем имеет место восприятие времени, заключающее в скобки сами процедуры интроспекции.
Такое настоящее возникает "по ту сторону" погруженности в сладкие муки памяти, как прорыв в незащищенность от наступающего, открытость неизведанному, погружение в реальность, в которой господствуют не-данное и опасно-неизведанное.
Как же определяется само реальное?
Оно полагается необходимостью реконструкции тех намерений, что конституируют небезразличную мне актуальность – и небезразличную в силу того, что "другие" обладают собственными фантазиями, прихотями, желаниями, кои они намереваются удовлетворить реально, а не в аутичных мечтаниях. Они и удовлетворяют их, действуя порознь и сообща; такие их интенции, вкупе с инструментами их реализации (ресурсами, аккумулированным прошлым опытом, достигнутыми договоренностями) и олицетворяют "ткань реального времени", в которой актуально персонализированы и материализованы завесы общности общего времени – подразумевающие общность его конституирующих рубрикаций, общего для ряда "внутренних миров" прошлого, настоящего, будущего.
И, помимо содержания исторического (общих для всех античности или западного средневековья), временные диспозиции охватывают и актуальность бытия, настоящее, по меркам временных диспозиций выстраиваемое и развертываемое (и именно в актуальной временности открытое "историзму"). Ближняя перспектива времени как будто совпадает с "дальней"; в ней также наличествуют свои прошлое, настоящее, будущее; но их родство иллюзорно; маркировки временных диспозиций "актуального" иные, в них происходящее ещё не отчеканилось в мертвые формы вечности состоявшегося (например, "античности") и идеальные формы неизбежно-наступающего и "чаемого" (например, "коммунизма").
Но в такой – "операциональной" – перспективе и время обретает черты техники и строя уловок, позволяющих решить вполне конкретные, актуальные задачи действия или взаимо-действия в поле "непрошедшего", "длящегося", актуального, в котором прошлое, будущее, настоящее взаимораскрыты, взаимопроницаемы и именно проникновением друг в друга и конституируют "ткань (живого, трепещущего, длимого) времени действия".
Подобное взаимопроникновение чрезвычайно естественно и обусловлено "логикой дела"; всякое начинание, например, "поединок", изначально ориентирована целью (как, в формальном раскладе, будущим), которая и выступает исходом самого дела (прошлым), и, по мере реализации, преобразует подобный замысел в реальность, со своими "этапами", в которых один и тот же замысел связует дело собственным развитием. Он есть прошлое, и будущее, и настоящее данного дела; он же как дело формирует собственную структуру, ту последовательность самораскрытия, в которой на место застывших категорий "времени" приходят более живые и не менее универсальные категории "зачина", "кульминации" и "развязки" (и, до "Нового времени", история и мыслится прежде всего таким же образом, совокупностью "историй"; см., в частности, [4]; архаическое время не совсем правомерно отождествляется с "циклическим"; авторская попытка анализа архаического "историзма" представлена в [5]; критические замечания, касающиеся расширительного понимания цикличности, см. в [6]). "Дело" как в том числе воля удержания цели (замысла) во всех его текущих модификациях (и вопреки им), и выступает прообразом пресловутой идеи, как вневременной "истинности" происходящего (единством воли и представления).
Завесы временных диспозиций нечто скрывают; но такое нечто не столь эфемерно или субстанциально, как представляется – это непременное условие игры, ведущейся меж субъектами реальности; сокрытие намерений, выстраивание ложных реальностей путем отвлекающих ходов и маневров, объединений, слияний и разделов – непременные условия конкурентно-игровых взаимодействий, представляющих подлинную почву реальности и, с равным правом, реальную почву подлинности.
"Спортсмен, вовлеченный в игру, увлеченный игрой, сообразуется не с тем, что он видит, а с тем, что он предвидит, видит заранее в непосредственно воспринимаемом настоящем, и он посылает мяч не туда, где находится партнер, а туда, где тот окажется – опередив соперника – мгновением позже; он занят предвидением чужих предвидений, которые и сами суть (например, при ложном маневре, стремящемся обмануть их) предвидения предвидений. … Только тому, кто совсем вышел из игры, кто полностью разрушил чары, illusio, отказался от всякой заинтересованности, то есть от всяких ставок на будущее, – только ему временная последовательность событий может предстать как чистая дискретность, а мир может явиться во всей абсурдности настоящего без "настающего", то есть без смысла, наподобие сюрреалистической лестницы, ведущей в пустоту. Чувство игры – это чувство "настающего" в игре, чувство смысла ее истории, которая и придает игре ее смысл". [7]
Заметим вскользь, что упомянутые чары, illusio, олицетворяют соучастие в реально-происходящем, иначе, его реальность; напротив, отстраненно-созерцательное отношение, "разрушая чары", выстраивает собственные иллюзии, утверждая в качестве аподиктики восприятия мира застывшие глыбы вечных, натуралистически-существующих временных диспозиций: (ненастоящего, навсегда ушедшего) прошлого, (ненастоящего, идеального и неизбежно идеализируемого) будущего, и (столь же ненастоящего, затерянного меж ними) бутафорского терминала "настоящего".
Реальность – прежде всего это "видение невидимого", несуществующего, но уже в существующем проступившего, ясно угадываемого, того, что представляет "жизненность" и "игровую раскованность" происходящего.
Игра обнажает инструментальный характер "вечных" категорий времени, выявляя в них роль условий организованности совместно-разделенного (противо-) действия. С ее точки зрения, будущее существует, таится в намерениях контрагентов, может в любой момент развернуться в их интервенциях и предстать настоящим. Оно уже представлено в настоящем (настояще), уже актуально, наступает, только соперник ещё не успел узнать об этом; между чьим-то настоящим и будущим другого наличествует ещё не давшая о себе знать активность, представляющая само "наступающее", но пока ещё не наступившее, только "надвигающееся". Такое настоящее предстаёт полем боя, наполненным сводками с мест, со своим штабом, мозговым центром, в котором развертывается "объективная картина столкновения" как "протекание боя".
Дистанция, разделившая линию фронта и штабы армий, и представляет собой то "настоящее", которое разделяет и связывает будущее и прошлое в клубок "свершаемого" или "происходящего". Но.
Столь же настоящей предстает общность как реальность живого и актуального взаимодействия, как нечто, вечно помещаемое вне границ "здесь и сейчас", охраняющих индивидуальные существования, охватывающая их "разом" и "целиком", перекрывающая частные "прошлые" и "будущие" актуальным простором "настоящего" (которое никак не возникает "само собою", но представляет плод организации, в том числе выстроенных систем скорейшей коммуникации и оперативного управления).
Общность и представляет собой то организованное, выстроенное в качестве систем управления и коммуникации "настоящее", в котором все частные временные порядки и представлены в тотализирующей их одновременности (например, реальной картины боя, концентрируемой в его актуально-настоящем, его линии фронта – которая, тем не менее, также условна, растянута в длину и глубину, и по самому характеру протекания боя может быть весьма противоречива в отношении данного – совершившегося; тот или иной прорыв может обернуться для противной стороны катастрофой, но в ходе умелого маневра может обернуться катастрофой для атакующего; этот прорыв "подвешен" в длимом настоящем, и до его окончательного завершения не завершен и сам, не определил собственное прошлое как исход и будущее как завершение).
С такой точки зрения одновременность, предстающая умозрительной абстракцией, есть, напротив, актуальная и непосредственным образом существующая общность, весьма своеобразное "поле" разрядов локальных взаимодействий, волн и потоков, невидимых с локальных позиций целиком, но оттого не становящихся ирреальными.
*
Постараемся несколько подробнее раскрыть последние утверждения.
Все "реальное" участвует в игре, обладая "характером" как инерцией движения во времени; реальное прежде всего "виртуально", "горячо", насыщено движением, которое, в свою очередь, насыщено смыслом, не остыло в мертвом хранилище памяти и гробах имен.
Мяч всегда "на чьей-то стороне"; этот мяч – материальное воплощение времени, он пропитан активностью, хранит энергию прошлой передачи и "ждет" следующего паса; в мире активности именно совокупность подобных горячих предметностей инициирует сам мир и обрамление; напротив, чистое время, отлитое в совокупность музейных экспонатов и идеологических лозунгов, отделяется от реальности барьерами экспозиций.
Мяч всегда прилетел откуда то и должен быть куда то перенаправлен; для точно направленного удачного паса необходимо "быть в игре", переживать ее в ее логике и том "смысле", что предопределяет всякое частное действие общей конфигурацией сил и равно пространственной диспозицией (включая оценки ситуаций).
Мяч всегда обладает "вектором" и "инерцией", вне которых ирреален; последние и есть время, воплощенное в мяче (оттого, к примеру, римский меч представляет собой лишь музейный экспонат; он уже "никуда не зовет" и "ничего не требует").
В отношениях субъектов, взаимной активности и взаимозависимости, связанности как интересами, так и страстями, "реальность" и раскрывается как время, а время, в свой черед, вбирает черты "намерения" и "интенции" (предугадывания, опережения, агона, той координации и концентрации, что определяют своевременность общего действия), равно накопленного ресурса во всем многообразии его идеально-материальных ипостасей, того "прошлого", что здесь и сейчас с нами, участвует в игре и определяет возможности того или иного индивида и характер тех или иных возможностей (дела).
Я как участник игры не абсолютизирую "свое" будущее; это – моя версия, мой план и маневр, который вовсе не обязательно утвердится в бытии, станет общим (будущим); я делаю все для его утверждения, тем не менее не замыкаясь в его единственности, "играя" совокупностью возможных игровых диспозиций, замыкая и размыкая их в спонтанности и непредсказуемости собственных решений. Ткань игры формируется совокупностью таких, преимущественно виртуальных, "ходов", сценариев, из которых рождается единственная реальность верно угаданного и в силу того ставшего общим и реальным хода, хранящего в себе многоликую виртуальность. И если, в такой связи, прошлого "уже нет", а будущего "еще", то только в силу того, что их и не было никогда в натуралистическом выражении, как нет в таком отношении настоящего, поскольку упомянутые проекции действия были, есть и будут виртуальными сценариями панорамно-многомерной реальности; "история мяча", кроме того, связана с "историей игры" тысячами неопределенных нитей; игра без мяча, вне которой "большая игра" невозможна, не имеет истории, и не утрачивает в такой связи "существенности" и "существования".
Общее "настоящее" перенасыщено индивидуальными "будущими" и "прошлыми", в том числе мечтами и иллюзиями, честолюбивыми надеждами и героическими жертвами, романтичными или циничными планами, горькими воспоминаниями; индивидуальные же планы, память, надежды, иначе, будущее и прошлое, прочно впаяны в общее настоящее, в то достаточно обширное поле, которое не имеет окончательного определение, может быть интерпретировано как настоящий – миг, но и настоящие сутки, неделя, год, столетие и пр. "В самих вещах будущее и прошлое пребывают в своего рода вечном постсущест